31 мая 2010
Последний раз был на сайте:
20 апреля 2024 в 13:01

-
meag
50 лет, Вараш

-
Ілона Мельник
45 лет

-
Серый Петров
54 года

-
klienkatNadra
Kiev

-
A ZART
44 года

-
GrugoriyHoland
57 лет, Киев
- 21 мая 2018, 11:43
Из книги Леонида Рабичева «Война все спишет»
Глава 17
«ВОЙНА ВСЕ СПИШЕТ!»
В начале марта 1945 года бои приняли особенно ожесточенный характер. Немцы не сдавались. Отступать им было уже некуда. Позади было море и только по косе Данциг – Пилау еще успела эвакуироваться часть гражданского населения и какие не помню и сколько дивизий или армий не знаю и не знал. Знал только, что наша авиация, артиллерия, наши танкисты, наши «катюши» уничтожали, сжигали, не обращая внимания на огромные потери, последние фашистские полки и дивизии.
Кажется, в конце февраля была прорвана последняя линия обороны в Восточной Пруссии и был взят город Хайлигенбайль.
Через несколько дней была окружена и ликвидирована последняя группа немецких войск юго-западнее Кёнигсберга.
По распоряжению заместителя командующего артиллерией двое суток обеспечивал я с половиной своего взвода связью зенитно-артиллерийскую бригаду, расстреливавшую прямой наводкой немецкие танки.
Вторая половина моего взвода, приданная к одной из дивизий армии, вошла уже в Кёнигсберг.
Спустя три дня мы вышли на побережье залива Фриш-Гаф, впереди было безжизненное море, на горизонте – безжизненная коса Данциг – Пилау. Но об этом я уже писал.
«Война все спишет!»
…Кризис слов, бесконечность фронта, / за утрату пространства ярость, / надвигающаяся старость, / расширение горизонта / от безмерного и святого / до наивного и простого.
Война все спишет?
Вспомнил, как штабной офицер в романе Льва Толстого сверху вниз смотрел на полковника князя Болконского.
А в январе 1942 года сержант Пеганов, который на гражданке был парикмахером, стриг и брил генералов и потому смотрел сверху вниз на лейтенантов и майоров. То же – портной, ефрейтор Благоволин. Он перешивал шинели из немодных в модные, из солдатских в офицерские и изготовлял офицерские фуражки с лакированными козырьками полковникам и генералам бесплатно, а лейтенантам за деньги. А старший сержант Демидов, который на гражданке был фотографом, а в армии, поскольку пил и закусывал с генералами и полковниками, ни в каких боевых операциях не участвовал. Ко мне он относился снисходительно. Надо отдать ему должное, он еще за деньги часы чинил, а мне бесплатно, и все мои военные фотографии – это его подарки.
Это была наша армейская солдатская элита. В нее чуть ниже рангом входило десятка два водителей армейских автомашин – в 1942 году легковых газиков, полуторок, крытых радиостанций, позже – американских «Виллисов», «Студебеккеров».
Благодаря постоянной дружбе с интендантами были у них всегда водка и консервы, и штабной повар Жуков обеспечивал их двойными порциями привилегированной еды.
По приказу капитана Рожицкого бойцами моими был построен в обороне под Дорогобужем большой блиндаж, переоборудованный в черную баню.
Из сожженной немцами ближайшей деревни привезли камни, соорудили полки и столы.
Его личный ординарец, ефрейтор Мосин, мыл ему спину, живот, ноги и по его специальному приказанию – все, что между ногами, таким же образом мыл он гостей Рожицкого, полковников и генералов. А наш интендант, старший лейтенант Щербаков, из уворованных из солдатских стограммовых пайков водки и продуктов со склада угощал их после бани. Еще он менял обмундирование со склада у освобожденного населения на самогонку.
Ординарца Мосина тошнило, когда он мыл промежности блаженствующему Рожицкому, и он дезертировал из армии. Дальнейшей судьбы его я не знаю. А у моего ординарца Гришечкина вдруг образовался огромный запас самогонки.
Лошадь – боль моя. Овес выдавали, а сена не было. Гришечкин то и дело в поисках прошлогоднего сена совершал поездки по окрестным селам.
То, что сено он воровал, я знал, не знал только о его побочном «бизнесе». Слово «бизнес» – это не из того времени, но, как ни удивительно, точнее ничего в голову не приходит.
И Рожицкий, и Щербаков, и Пеганов, и Демидов, и Благоволин, и шофера наши вверенные им средства использовали в корыстных целях. Связисты мои воровали кабель, сено, овес, самогонку, срезали параллельные линии связи, а я не презирал, не ненавидел, я любил их всех.
Как это сочеталось с моим аскетизмом, идейностью, творческим отношением к любому делу, оптимизмом? Почему они все любили меня? Думаю, что в глубине души каждого из них то и дело пробуждалась память о выраженном в знакомых с детства словах «моральный кодекс советского человека».
Нравилось им и то, что я был совестливым и одновременно их соучастником, и хотя определенно «не от мира сего», но свой в доску и не доносил.
Гришечкин.
Под предлогом поездок за сеном воровал он у жителей окрестных освобожденных деревень жернова.
Два несколькопудовых, кажется, гранитных круглых камня для превращения зерна в муку. Воровал в одной деревне, а продавал за несколько литров самогонки в другой. За этим делом я его однажды застал и пришел в ужас.
Люди, которых он обкрадывал, бедствовали. Я заставил его отвезти жернова его первым жертвам и отказался от его услуг ординарца. Выбрал вместо него Соболева – замечательного, доброго, честного и чрезвычайно храброго мужика.
2004 год. Осудил факты нечистоплотности, безнравственные поступки, античеловеческие ситуации – то, в чем и я был невольным, а порой и сознательным участником. Прочитал написанное и преисполнился недоумения.
Налицо парадокс.
В 1943 году под Дорогобужем я, безусловно, сочувствовал своим связистам и во имя высшего – победы над фашистской Германией – закрывал глаза на повседневное растаптывание самой сущности этических представлений. В 1943 году помыслы мои были чисты и дорога в будущее светла. Не думал я ни о ГУЛАГе, ни о том, что пил краденую самогонку и воровал лошадей. В 2005 году я на прошлую свою наивность и на будущее смотрю с испугом, и сердце мое обливается кровью. Может, головы были не тем заняты, рискуя жизнью, выполняли боевые задания, и все средства были хороши для их достижения, и уж конечно это – «мы за ценой не постоим». 2005 год. Чечня.
Уже накануне взятия Борисова потеряли мы, обеспеченные одним гужевым транспортом, возможность двигаться со скоростью наступления. У всех до одной великолепных наших лошадей, в том числе и трофейных немецких, были стерты и разбиты подковы, их окровавленные копыта пугали меня. Они не могли дальше тащить телеги, нагруженные кабелем, запасом патронов, гранат, солдатских рюкзаков и скаток и тех стерших до крови ноги моих бойцов, что по недосмотру недостаточно профессионально обернули свои ноги портянками.
За пять дней, совершив двухсоткилометровый марш, мы неожиданно для себя застряли. Были прежде по деревням кузнецы, но все они либо ушли защищать Родину по призыву, либо оказались в плену, либо ушли в партизаны. Между тем два раза в день я разворачивал рацию и натыкался на звероподобный мат начальства. Как боеспособное подразделение мы явно выходили из строя.
И вот тогда возникла одновременно у меня и бойцов моего взвода мысль обменять уставших хороших, но с разбитыми копытами лошадей на подкованных деревенских. Но в деревнях, в зоне пяти – восьми километров от Минского шоссе, почти все лошади были реквизированы отступающими немецкими подразделениями, причем их использовали не только в качестве гужевой тяги, но и ввиду нарушения снабжения просто съедали.
Лошадь, как и корова для деревенской семьи, – кормилица. Более, чем собака и кошка, член семьи. Так же как и для деревенской семьи, и в моей жизни моя лошадь стала за три года войны частью моей судьбы.
Нет, не кавалерийский конь. В декабре 1942 года выдали мне ее с телегой и упряжью по приказу то ли начальника связи Молдованова, то ли заместителя командующего артиллерией Степанцова, просто ввиду того, что ходить я не мог. Приехал я из своего башкирского училища с глубокими язвами на обеих ногах.
Именно тогда мой ординарец Гришечкин с тремя мужиками из моего взвода близ деревни Каськово (кажется, теперь там Зубцовское водохранилище) вырыли два блиндажа – сначала для меня с Гришечкиным, а потом и для моей лошади. Кажется, и там и там было по железной бочке – печке. Два блиндажа эти были метрах в двадцати от поста сержанта Демиденко. Зима была холодная и снежная. Каждый день блиндажи наши засыпало полуметровыми снежными сугробами, и каждое утро бойцы Демиденко откапывали нас, а Гришечкин откапывал лошадь.
Ходить тогда я еще не мог, и Гришечкин на руках вытаскивал меня на мороз. Оба мы скидывали гимнастерки и рубашки и, обнаженные по пояс, обтирались снегом. А в черной бане мылись в деревне Каськово.
Гришечкин подкидывал под камни дрова и обливал их бензином. Камни раскалялись. Какое-то время я мылся, сидя на полу, потом, не выдерживая невообразимой жары, ложился на пол. А ординарец мой на верхней полке смеется надо мной и хлещет себя веником. Голый, я выбегаю из бани на мороз и теряю сознание.
Да, я горожанин, бывший интеллигент. Гришечкин на руках вносит меня в избу.
Я прихожу в себя и одеваюсь. Обморок от контраста температур. Не я первый.
Но не о бане я хотел писать, а о бедных неподкованных лошадях. Весь день уговаривали мы мужиков войти в наше положение, поменять наших обезноженных лошадей на их подкованных.
Но отдать свою выращенную с трудом, впитавшую время жизни лошадь – все равно что руку или ребенка, никто из них на это не соглашался.
А мы должны были догонять свою войну.
Ночью с болью мы расставались со своими лошадьми, перелезали через заборы, открывали ворота, тихо, так чтобы не разбудить стариков и старух.
Но иллюзия – никто из них не спал.
Силой, с оружием в руках загоняли мы крестьян в их избы. До утра длилась эта операция. Слезы, угрозы, обман.
Стараясь быть справедливыми, писали расписки. У кого были деньги – платили деньгами. Знали мы, однако, что никто расписки наши всерьез рассматривать не будет, а деньги давно уже были обесценены.
Утром мы были уже в пути.
Гришечкин обменял трофейного немецкого битюга на жеребую кобылу.
Через два дня мы ели этого жеребенка. А подковы у новых наших лошадей снова уже были разбиты, ноги окровавлены, на глазах слезы. И снова выхода не было, и все повторялось сначала пять или шесть раз, пока под городом Лидой мы не нагнали свою армию и не начали воевать.
Кроме кражи лошадей, на последней стадии наступления крали мы свиней, крали потому, что есть было нечего. На этот раз механизированные интендантские подразделения ушли от нас верст на двести вперед.
Вспомнил об освобожденных из немецкого концлагеря Сувалки наших военнопленных.
В центре этого городка были кирпичные двухэтажные дома, а мы остановились в деревянном доме и развернули радиостанцию прямо на дороге. А по дороге шли освобожденные нашими войсками лагерники, бывшие красноармейцы, и кто-то из них попросил воды, зашел в дом, напился и по рассеянности оставил на столе черную записную книжку.
Мимо нас двигалась бесконечная вереница полуистощенных людей, и один из них, увидев нас, произнес со злобой, указывая пальцем на своего соседа:
– Вот власовец! Его надо арестовать.
А тот сказал:
– Ты что врешь, ты сам власовец!
И тут масса освобожденных, бывших наших солдат остановилась, и каждый, показывая на своего соседа, хриплым голосом орал:
– Это он, он сотрудничал с немцами!
Мы стояли подавленные и не верили своим глазам. Картина напоминала мне «слепцов» Питера Брейгеля, которые вслед за своим проводником проваливались в пропасть.
Так власовцы или не власовцы?
И кто бы они ни были, почему так ненавидят друг друга? Если власовцы, то почему сидели в концлагере, обреченные на смерть?
Если сводят счеты друг с другом и лгут, то почему?
Страшно и противно мне стало, и вошел я в избу, и увидел на столе черный блокнот, тот, забытый одним из движущейся толпы.
Открываю и понимаю, что это дневник нашего офицера, раненного в 1941 году при отступлении и попавшего сначала в лазарет при лагере. Старший лейтенант, инженер, москвич описывает, как уже в конце первой недели по доносам соседей по баракам расстреливали эсэсовцы всех коммунистов и евреев, и фраза прописными буквами: «КОГДА ПРИДЕТЕ, НЕ ВЕРЬТЕ НИКОМУ! ВСЕ, КТО ОСТАВАЛСЯ ВЕРЕН РОДИНЕ, РАССТРЕЛЯНЫ. Остались в живых только те, кто так или иначе сотрудничал с лагерным начальством». И опять как вопль: «НЕ ВЕРЬТЕ НИКОМУ!»
А дальше фамилии предателей и факты предательств.
Медленно он умирает в лагерном лазарете, и вдруг радость! Он находит человека, которому можно доверять. Это почти мальчик, ему девятнадцать лет, но он не предатель, и завещание: «КОГДА Я УМРУ, ПЕРЕШЛИ МОЙ ДНЕВНИК ПО МОЕМУ МОСКОВСКОМУ АДРЕСУ, и пусть мои родственники сообщат куда надо правду об изменниках, которые будут прикидываться защитниками».
А дальше уже девятнадцатилетний описывает, как его друг умер, и просит того, кто найдет книжку, сохранить ее и направить по адресу его родных, которые тоже москвичи.
Я немедленно пишу со всеми возможными подробностями два письма в Москву. Родственники офицера не ответили, а родственники солдата – о, что это было за письмо, что за вопль радости. «Подтвердите, подтвердите ради бога, что он жив!» Я подтверждаю, но уже через несколько дней получаю второе письмо. «Мы благодарим вас, вчера получили от него письмо, он жив!»
Все это слава богу!
Страшный дневник этот хранил я в своем рюкзаке.
К сожалению, при переправе по льду через одну из восточнопрусских речек образовалась трещина, задние колеса перегруженной нашей полуторки провалились под лед, и машина начала все глубже уходить в образовавшуюся полынью. Соседи успели зацепить за крюк на радиаторе железный трос. Ночь была беззвездная, почти ничего не видно.
Кто-то догадался поджечь двухэтажный барочный дворец на берегу реки. Сноп пламени успел осветить импровизированную переправу и тонущую нашу рацию.
Когда машину потащили вперед, лед провалился перед передними колесами. Пришлось срочно отцепить трос. Все следующие за нами машины проложили по покрытому снегом льду дорогу метров тридцать левее.
Жалко, что во время возни вокруг тонущей нашей рации уронил я в образовавшуюся полынью свой рюкзак с письмами от родителей и друзей, с дневником погибшего в концлагере старшего лейтенанта.
Прав ли он был? Не знаю.
Ведь все эти обличающие друг друга прошли мучительный путь от немецкого концлага к русскому ГУЛАГу.
Не были они ни палачами, ни карателями. Их ли грехи, что предала их Родина, пошли они на какой-то компромисс с палачами с целью не умереть.
Затертые меж двух бесчеловечных тоталитарных систем, заслуживали они если не оправдания, то уж во всяком случае – жалости.
Утрата блокнота была для меня тяжелой потерей. Особенно я переживал, что не переписал фамилии изменников и предателей.
В 1945 году образ мыслей умирающего офицера целиком совпадал с моим. Первым моим желанием в момент, когда я читал его дневник, было переслать его на Лубянку. Но чем это отличалось бы от «подвига» Павлика Морозова? Образ врага, страх возмездия?
Если я не ошибаюсь и это на самом деле были власовцы, то какой же ужас, какой страх возмездия заставлял их ценой предательства друг друга пытаться спасти от гибели себя. Так ли они отличались от штрафников фронта, от партийных функционеров времен чисток и единогласных голосований? Не тот ли же это менталитет человека 1937 года? Как во мне могла совмещаться психология интеллигента, народника, передвижника, поклонника декабристов и Герцена с этой жаждой разоблачить и наказать? Но ведь это было. Господи! Слава богу, что утопил я на жуткой ночной переправе ту записную книжку и остался, волею случая, человеком чести и не вступил, тоже волею случая, в партию большевиков.
|
|
30
|
- 11:45 Stripe будет принимать платежи в крипте, SEC отложила решение по опционам на спотовые биткоин-ETF: что нового на рынке
- 10:33 Курс валют на 26 апреля: доллар в банках подешевел, евро — подорожал
- 09:27 НБУ вводит в обращение памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Аист черный» (фото)
- 08:02 Официальный курс: НБУ снизил гривну на 20 копеек
- 25.04.2024
- 18:39 В НБУ говорят, что курсовые колебания не несут никакой угрозы
- 18:17 Блокнот с надписью «Buy Bitcoin» продали на аукционе за $1 млн
- 17:54 Активы «дочек» росбанков уже проданы на 5 млрд гривен — Минэкономики
- 17:41 Курс валют на вечер 25 апреля: доллар и евро на межбанке ушли вниз
- 17:15 Украина рассчитывает получить $38 миллиардов помощи в 2024 году
- 16:16 Парламент легализовал труд домашних работников

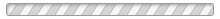

Комментарии